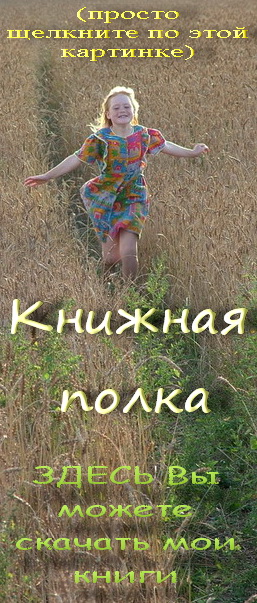ЧУДО ФОТОГРАФИИ Эта книжка о сути. Она для тех, кто искренне увлечен фотографией и находит в любимом занятии отдушину. Мозг автора отравлен мыслию о том, что он знает о фотографии все. На самом деле я знаю о светописи только одно: она позволяет приблизиться к Богу… 
Так что же такое фотография?
Давно вознамерился я написать такую книжку о фотографии, в которой непринужденно, в форме, простите, "художественного трепа" было бы рассказано о том, какие возможности предоставляет человечеству занятие фотографией. Вообще книг о фотографии немало. В основном они о технике, о преодолении препятствий, встающих на пути (как говорили в старину) охотника до фотографии. Есть прекрасные издания по истории фотографии, по фотографической композиции, по компьютерной обработке фотоизображения… В общем, информации хватает. Проблема в том, что маловато действительно достойных фотографий.
В книге, имевшей целью охватить фотографическую Вселенную ("Фотография как…"), ее автор Александр Лапин пишет: «…за что мы любим фотографию? Не только фотоискусство, а самую обычную фотографию? Мы все, и фотографы, и нефотографы, что называется потребители? Все очень просто на фотоснимке красивее, чем в жизни и даже умнее… То же самое в отношениях между фотографией и самой жизнью. Наша жизнь на фотоснимках точно так же может быть гоораздо более красивой и умной, во всяком случае, много более осмысленной, чем в действительности. Не прекрасная сама по себе природа, не багровое солнце над горизонтом, а обычное, будничное, те ежедневные мусор и дрянь, из которых и состоит наше зримое существование. Идет человек по улице в магазин. И вдруг оказывается – как это красиво, как хорошо и правильно!» Лапин написал удивительную книгу. Но какая-то она получилась все же мрачная… Возможно такое ощущение у меня родилось оттого что Лапин презирает цвет в фотографии, или из-за надменной позиции автора: "Я тут сижу на фотографическом Олимпе и вещаю… А вы слушайте и стремитесь…" Да, цветная фотография утомляет - в особенности если ее много. Но, возможно, это от неумелого пользования цветом?
Фотография непредсказуема. На фотоснимке (в особенности – черно-белом) красивое может равно выйти уродливо или прекрасно. И уродливое может выйти всяко. Даже признанные фотомастера, буквально "выцарапывая" прекрасное из серой действительности, рискуют воздать нечто уродливое, отталкивающее… Все-таки мы любим фотографию не за то, что она «преображает» мир. Фотоаппарат коварен. Процитирую юмориста: «Российская женщина отличается от женщин всего мира тем, что они никогда не нравится себе на своих фотографиях».
Нет, мы любим фотографию прежде всего за то что она хранит милые нам образы. И второе – за легкость результата. Нажал на клавишу – и вот, плиз, получи готовую фотку. Рекламный слоган: «Вы только нажимаете кнопку – все остальное мы делаем за вас!» Отсюда неверие массового сознания в возможность фотографического шедевра. Великий снимок Дмитрия Бальтерманца «Горе» не «заиграл бы», если бы фотограф не впечатал в него мрачные облака. Это действо идет вразрез с книгой «Фотография как…», утверждающей, что фотографический шедевр невозможен, если в него вторгся "фотошоп". Конечно тогда, в 1964 году, когда "Горе" было опубликовано (представьте: времена были такие, что великий фотограф вынужден был хранить сокровенный негатив два десятилетия, боясь репрессий…) никаких "фотошопов" не было. Но ведь любой монтаж или маскирование во время печати - это уже вторжение в реальность! Ио в итоге получился удивительный документ истории, показывающий всю грязь и ужас войны. Документ?! Ведь произведение искусства! Или все же документ?...
Так что же такое фотография? Прежде всего она - часть нашей жизни, данность. Фотографическая деятельность буквально вгрызлась во все области деятельности человека. Причем, уже не осталось исключений.
Еще фотография - средство общения (по-научному "массовой коммуникации"), имеющее свой язык, своеобразную знаковую систему.
Двухмерный мир более понятен нам, он не так пугает (но и не так завораживает). Спроецированная на плоскость и запечатленная реальность прекрасно помещается в фотоальбоме или в кармане.…
Тенденции
Без сомнения, круг почитателей фотографии расширился за счет Всемирной Сети. Вопреки мнению, что прилив серости влечет за собой падение общего уровня, я считаю, что массовость - явление замечательное, ибо даже сама жизнь, как считают многие ученые, зародилась из-за большого количества биологической массы. Хотя…
Блуждания в океане времени
(Написано в сосотоянии некоторого возмущения) 
Я превратился в тупой станок, штампующий фоторепортажи как блины. Раз в неделю - вынь да положь репортаж! Кто-то скажет: «А кто тебя заставляет?» Кто-кто! Материальные обязательства перед семьей. У меня жена, кстати, тоже имела отношение к фотографии: в институте «Госниихимфотопроект» она разрабатывала новые фотоматериалы. Теперь там все развалено, никто ничего не разрабатывает, а начальство «пилит», сдавая в аренду помещения. И жена влилась в стан безработных. Ну, кому сейчас нужен специалист - эмульсионер? Так что приходится пахать на всю семью; некогда не то что учиться – призадуматься: «И так – до конца дней твоих?..»
«Фотографические» проблемы, которые ставит передо мной жизнь, несколько иного порядка. Три дня назад вернулся из командировки с Северного Урала, из городка с милым названием Новая Ляля. Там в очередной раз попал под «ментовский» пресс. Пригласили меня на конкурс красоты в поселок Лобва. Я как обычно (и с разрешения начальства) снимал за кулисами. А меня менты «повязали», оттащили в отделение - и давай «гнобить» по полной программе. Якобы я снимал несовершеннолетних девочек без их согласия и в неглиже. Представьте: те, кто выгнал девок на подиум в бикини - нормальные. Кто из снимает - уже «педофил»… Попытки сказать, что я работаю с разрешения (девочки-то меня видели, да и администрация была в курсе), этих «зомби» в погонах только раззадорили - и они стали меня «прессовать». То есть, устроили перекрестный допрос со всякими провокационными вопросами, например: «За чтобы не любите милицию?..» Предположим, я отвечаю: " А за что вас любить?" Сразу последует протокол: " Подозреваемый имярек позволял себе высказывания, порочащие орган правопорядка...." То есть, я очутился в тупике.
Меня вызволили новолялинские чиновники. Все-таки столичный журналист, неудобно… Своих-то менты наверняка привыкли «гнобить по полной програме», а вот - чужака… Хотя, если судить строго, они и «навалились» на меня именно как на чужака. И знаете, какой стресс я испытал, когда обозленные менты просматривали ВСЮ съемку на двух моих камерах? Не найдя «пахабных» карточек, они пошли дальше: возможно, искали фото мостов. Или станций. Или заводов. Тогда бы мне начали бы вешать «терроризм» или «шпионаж»... Не нашли. Я сразу понял, что в поселке царит «ментовской беспредел», и сидел тихонько, не рыпаясь. Как с диким зверем, ни одного лишнего движения, иначе - разорвет! По счастью, ничего не нашли. Хотя искали - старательно, и постоянно провоцировали на то, что бы я сорвался, психанул. Я сидел на стульчике в дежурке, а эти «товарищи» старательно «прощелкивали» всю мою съемку. По сути снятое мной - мое личное дело. Можно сказать, интимное. Чувство, которое я испытал в отделении, было похоже на то, будто тебя раздели и дотошно осматривают твое тело.
Ни менты, ни чиновники не извинились. Мне пришлось срочно «сваливать» из Новой Ляли - просто из боязни того, что обозлившиеся «оборотни в погонах» подложат в гостиничный номер наркотики или оружие… До дома две тысячи верст, хозяин поселка (и градообразующего предприятия) - известный в области «беспредельщик» (это я потом в Интернете прочитал, там много всякого понаписано…)… Если бы не «крыша» в лице чиновников, мне бы несдобровать. Это, кстати, очень большая тема - искусство существования фотожурналиста в России. И в Мире. Я рассказал об этом, чтобы уважаемый читатель понял, какие проблемы реально стоят перед фотожурналистом, ибо мы вынуждены работать в обществе с высокой степенью социальной напряженности.
Мы в своей стране «допрыгались» до того, что (согласно всем социологическим опросам) граждане России больше всего на свете боятся милиции. Идешь по улице – и чувствуешь на себе изучающий взгляд милиционера. Если ты ЕМУ не понравился и он тебя подозвал – пиши «пропало». И ведешь себя с милиционером как с диким зверем – ни одного резкого движения. Иначе все – он применит свою власть как считает нужным.
За мою немалую журналисткую практику случалось всякое. Бывало, затаскивали бандиты в подвал и начинали «гнобить»: «Твоя фамилия Михеев, мы знаем твой адрес, и попробуй хоть что-то не так написать. У нас длинные руки». Бывало, в «горячей точке» боевик или федерал (здесь без разницы) крутит твое редакционное удостоверение в руке и сквозь зубы вопрошает: «Так чего ты корреспондент? А по мне ты – шпион…» И передергивает затвор автомата. Но там – ясно, это война, беспредел. А сейчас у нас что – война? Если исходить из враждебности действий, получается, что да…
Начальник поселка (если быть точнее, начальник управления Лобвинской территории – так здесь принято называть глав) Александр Целлер уже после моего вызволения весело пошутил: «Скажите спасибо, что на вас не повесили парочку убийств!». Целлер – немец. Это заметно на облике поселка; здесь чисто, прибрано, почти что «гламурно». Ну, умеют немцы порядок наводить, этого у них не отнимешь! Целлер рассказал, что 82 семьи его друзей и родственников давно переехали в Германию. Только он один здесь остается. Ему нравится: природа, тишина, и вообще здесь неплохо. Ну, наверное, у начальника есть любовь к природе и надежные заступники. У меня имелась только 51-я статья конституции, согласно которой (это мне разъяснили в милиции) я имею право не свидетельствовать против себя. До дома больше 2000 верст, и на тебя испытующе глядят несколько пар холодных хищнических глаз. Они здесь правят бал… Лобва в сущности не исключение. На каждом квадратном сантиметре России ты чувствуешь себя потенциальной жертвой. Вспомни Лермонтова: «…и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ…» Повторю: если бы не помощь доброго человека, возможно бы, на меня и вправду «навесили» бы парочку убийств…
Самые неприятные минуты я испытал уже в Москве. Когда сходил уже с поезда на перрон, в голове вдруг мелькнуло: «Что-то не так!..» Я решил на всякий случай снять очки (я очкарик). На перроне группа милиционеров пристально вглядывалась в лица пассажиров. Когда поравнялся с ними, услышал: «Нет, тот в очках…» Что меня осенило: а вдруг мне что-то подложили в вещи, и дали «ориентировку»?.. Пронесло. Несмотря ни на что лобвинские милиционеры все же вели себя вежливо. Московская милиция – другая, столица не церемонится… Начальник лобвинского отделения милиции, на вид человек добрый, даже извинился, рассказал о том, что их край воспет Бажовым. Дома я все же тщательно обыскал свои вещи, и ничего не принадлежащего мне не нашел. Наверное, паранойя…
После я постарался проанализировать произошедшее. Милиционеры Лобвы «прибивали» меня. Я постарался «пробить» (то есть узнать всю подноготную) поселок Лобва. И открыл та-а-а-акое!!! Бог с ней, с обидой, с состоянием, будто тебя оплевали! Мне стало искренне жаль лобвенскую милицию! Как, впрочем, всех жителей далекого североуральского поселка. На всех лобвенцев свалилась страшнейшая беда. Отсюда и озлобленность, и подозрительность к чужакам, и агрессия…
Начинать надо с 90-х годов, когда власть Свердловской области попустила криминалу, и бандиты попытались прибрать к рукам все, совершенно все, начиная и экономики, и заканчивая властью. Во многих места им это удалось, в частности – в Лобве.
Недавно несколько десятков оставленных без средств к существованию рабочих голодали. Народ собирается перекрывать трассы, ехать пикетировать правительственные дворцы. По-простому сказать: зреет народный бунт. Люди копят деньги, чтобы послать «ходоков» в Москву, к Путину. Хотели сначала к Медведеву, но скоро поняли: "левак". Но где их, эти чертовы деньги, взять? Остается срывать зло на чужаках...
Да, с приходом «мобилографии» снимает практически все население. И у каждого второго - «цифромыльница». Но у человека, снимающего профессионально, проблем стало больше. При советской власти человека с фотоаппаратом, снимающего на улице, могли забрать в КГБ. Ну, сами понимаете - «холодная война», и все такое… А сейчас к тебе «докопаться» может кто угодно: и секьюрети, и мент, и хозяин какого-нибудь сарая, который случайно попал в поле зрения твоей камеры... Фотограф существует мире, полном ненависти и презрения.
Сейчас вот, когда пишу эти строки, огляделся вокруг. Подсчитал: в моей квартире в наличии имеется 3 стационарных компьютера, 2 ноутбука, 2 смартфона, 7 цифровых фотоаппаратов (простите - 8, ибо позавчера прикупил очередной...). Ну, и с десяток пленочных камер, вместе с немалым набором оптики где-то пылится. Тогда, в 1988-м (именно в тот год был написан первый вариант «Чуда фотографии») у меня был фотоаппарат «Любитель» 6х6, – и более ничего. Я жил в коммуналке в центре Москвы (на улице Грибоедова – теперь Малом Харитоньевском переулке), и любимым моим времяпровождением были прогулки по старой Москве с фотоаппаратом «Любитель.». В том, что в «Любителе» шахтный видоискатель, было преимущество: я мог снимать незаметно, «с пупа». Поверьте - это особое состояние - снимать незаметно, как бы сливаться с окружающим пейзажем. В классическом варианте это называется: «съемка-наблюдение». Москва для меня была как живой организм, а я путешествовал внутри него, пытаясь найти такое, чего не видит никто. Фотографировал исключительно для себя – мне просто нравилось это. Будем считать, все не выходило за рамки хобби. Но одна из моих первых публикаций (в «Московском комсомольце», осенью 91-го) был фоторепортаж «Истинная жизнь Китай-города». Как раз из той серии любительской съемки «с пупа». Ночная съемка центра Москвы, на ночь остающегося совершенно пустынным. Довольно долго снимал в метро, пытался понять «скрытую» жизнь московского метрополитена. Здесь уж своя поэтика - с громадными людскими массами, с суетой… Теперь все не так. Если я вижу фотокарточку «с претензией», но не несущей в себе журналистский ценности, меня почти воротит.
В 1988-м я работал фотографом в одном из НИИ, по сути выполнял чисто техническую задачу – проявлял микрофильмы. Пока пленка (300-метровая бобина) прокручивается сквозь громадную проявочную машину, есть время поработать к книжками - и по фотографии, и по эстетике, и по философии, и по черт его знает чему. Благо, тогда в библиотеки ходить было принято и не считалось чем-то зазорным. Да и в букинистических магазинах можно было найти немало редких книг. И, видимо, в голове моей сварилась какая-то особая «каша», которая должна была принять некую форму.
Работая фотографом, вечером учился в Полиграфическом институте на специальности «фототехника». То есть, я фотограф с высшим образованием. Жаль, по технической части, но все же! Как минимум, о технической стороне фотографии я знаю немало (из того, что помню, конечно, ибо в практике журналистики технические знания мне пока что не пригодились ни разу). Если сказать образно, я хороший специалист по «растиранию красок». Ну, а искусство живописи - дело техники!.. По крайне мере, некоторые так думают…
Я действительно любил фотографию. Более того: фотография была для меня религией, средством общения с некоей божественной сущностью. Жаль, что я научился формулировать. Потому что определение – это смерть. Тогда я не понимал, что делаю, и сей факт был самым прекрасным в моем тогдашнем положении.
Теперь определяю. По религиозным убеждениям я был пантеистом, то есть Богом для меня было все сущее, весь видимый, слышимый и ощущаемый мир. Моя натурфилософская деятельность сводилась к тому что я при помощи фотоаппарата пытался прикоснуться к чему-то огромному и непостижимому.
Люблю ли я фотографию сейчас? Я бы ответил: «Какую фотографию? Они ведь такие разные…» Да, фотография действительно имеет множество ипостасей. Люди с фотоаппаратами в руках думают, что между ними общность. Но лично мне кажется, что молотком можно ударять и по голове, и по гвоздю, и по барабану. Звук приблизительно одинаков, но результаты резко контрастируют.
Знаете, скажу честно. Мне сейчас больше нравится писать (с ударением, конечно, на последнем слоге). В фотографии я наткнулся на стену; чтобы идти дальше, нужно бросать семью, бросать рутинную работу, бросать вредные привычки. То есть из обывателей переродиться в блаженного, «не от мира сего». Я знаю фотографов, которые отважились на такой поступок. И знаю, что они живут небогато (как, впрочем, и все художники «при жизни»).
Я сейчас снимаю очень много, но как-то машинально, что ли. К тому же перегружен стереотипами. Сейчас я выбрал для себя довольно узкую тему: «Российская глубинка». За одну командировку встречаешь столько людей! И в основном, замечательных, с чистыми и благородными душами. Бывают, конечно звери, но поверьте - произошедшее в на Северном Урале - редкое исключение из правила! Если вести себя вежливо, не «расставлять пальцы веером», можно и с бандюками сладить. Снимаю людей по возможности разнообразно. Вечерами (если в командировке) просто брожу с фотоаппаратом, насаждаюсь природой, «щелкаю» пейзажи. Но как-то все – не то… Когда дома, вообще фотоаппарат в руки не беру. Это, понимаете ли, ремесло: ты сморишь на мир не влюбленными и широко раскрытыми глазами волчонка, а холодными и равнодушными глазами волка.
Москву не то что разлюбил (как можно разлюбить Родину и Мать?), а скорее отношусь к ней равнодушно. Моей Москвы уже нет. Я с 1991 года живу в «спальном» районе Строгино, и в общем-то привык. И знаете… иногда ловлю себя на мысли, что в старых русских городах узнаю старую Москву, ее ауру. Может, от этого моя тяга к провинции?
Я вожу ребенка в Дом пионеров на занятия (рисованием и пением), и, пока жду, рассматриваю на стенах фотографии. Там постоянно меняют выставки участников детских фотокружков со всех концов Москвы. Мне нравится; я вижу, что снимают «волчата». Они смотрят на мир широко раскрытыми глазами, и подмечают то, на что я и не посмотрел бы. У детей хорошие учителя! Не уверен, что фотография умирает…
Итак, первая часть «Чуда фотографии» создана в 1988 году. Когда я набирал текст на компьютере в 1998-м, внес некоторую правку, которая в сущности не вторгалась в суть. В какой-то книге прочитал, что все лучшее в своей жизни человек создает до 25-летнего возраста. Мне как раз в том году было 25. Если честно, написал я бредятину. Но основные идеи довольно любопытны, и, что главное, это мои мысли, а не компиляция. По сути я попытался уловить отличия фотографии от других искусств, причем не внешние, а самые что ни на есть глубинные.
Вот, я писал о чуде проявление в кювете фотокарточки. Но за 90-е годы я столько карточек в кюветах наполоскал! Все майки и рубашки на уровне пупа были желтые, жена матом крыла. И теперь в общем-то счастлив, что не надо мочить руки в ванночках с проявителями и закрепителями. Но знаете… получается так. «Мокрая» фотография была ритуалом. Это как пригласил в кафе девушку, погуляли в парке, в киношку сходили. И, как финальный аккорд – ночная страсть… А что теперь, в связи с воцарением «цифры»? Ну, встретились с девушкой – и сразу, не знакомясь – в койку! Раньше я помнил все мои карточки. Теперь, увидев на компьютере фотографию, сделанную в прошлом году, искренне удивляюсь: неужели эту хрень снял я?!
То есть налицо явная инфляция фотографии. Это не катастрофа, а просто новая реальность, нуждающаяся в осмыслении.
Взгляд волчонка
...Когда я размышляю о мимолетности моего
существования, погруженного в вечность,
которая была до меня и пребудет после,
и о ничтожности пространства, не только
занимаемого, но и видимого мной, пространства,
растворенного в безмерной бесконечности пространств,
мне не ведомых и не ведающих обо мне, я трепещу
от страха и спрашиваю себя: почему я здесь,
а не там, ибо нет причины мне быть сейчас,
предназначил мне это время и это место?
а не потом или прежде. Чей приказ, чей промысел
предназначил мне это время и это место?
Memoria hospitis unius diei praetereuntis.*
Блез Паскаль.
(* - память об однодневном госте)

Странное, не с чем не сравнимое чувство при просмотре старых фотографий. Что-то невыразимо чистое сквозит в них. Кажется, только вчера репортер на какой-то сверхсекретной машине времени слетал в те годы и отснял пару роликов. Больше всего обескураживает двойственность чувства: с одной стороны понимаешь, что всего того, что запечатлено на снимке, скорее всего, уже нет, но с другой стороны, это есть, и явлено оно нам в виде этого вот картонного отпечатка. Вот так люди тогда одевались, такой комплекции были (замечаешь, что и тогда не отказывались хорошо поесть). А на лицах тех, ушедших, - лежит непередаваемая печать умиротворения (ладно - сто пятьдесят лет назад этому способствовали неимоверные выдержки - нужно было несколько минут сидеть, не двигаясь, но и произведения эпохи мгновенного фото тоже полны спокойствия на лицах). А в общем-то, такие же, как мы люди, и ничто нас не рознит...
Но позировать перед фотографом люди научились сразу. Все просто: мы всегда играем в жизни определенную роль, а маски нам носить не впервой. И все равно, кажется почему-то, что когда-то люди были более открытыми.
Рассудок понимает, что это не более чем идеализация прошлого, “кристаллизация” вокруг ушедшего легенд и тайн. Чем старее документ, тем больше этот таинственный нарост. Но уж так устроен человек: не может он без мифа. Кто-то возразит, что фотография здесь не при чем, что просто время все сущее заволакивает туманом таинственности, и я с вами соглашусь, но с некоторой оговоркой: фотография - нечто большее. Являясь в каком-то смысле срезом временного потока, фотоснимок обладает свойствами не только бытия, которое им отражено, но и самого времени как категории. Проще говоря, фотография - инструмент, способный воздействовать на время, клин, выбивающий клин. Возможно, воздействие это ничтожно, но факт, что фотография подарила нам возможность ощутить этот таинственный процесс: ход времени. И поэтому чудо фотографии вызывает у меня чувства, несколько отличные от испытываемых мною ощущений при просматривании, к примеру, старинной книги.
Эпохи следуют друг за другом с умопомрачительной скоростью и их смена вбирает в себя трагедию в невозможном, казалось бы, соединении с праздником. Но в любом случае мы, влекомые необратимым потоком истории, чувствуем значимость перемен. Фотография же уравнивает все времена, ставит их как бы в одну линию. С помощью этого хитрого инструмента - фотокамеры - человечество имеет возможность созерцать свое ( и не только свое) бытие. Рядом уживаются и дагерротип с портретом вольнодумца, и хроника Первой Мировой войны, и снимок человека в космосе, и Бог его знает, что еще. Так фотография выбрала себе в музы Клио. И служит этой капризной девице до самозабвения.
Клио хоть и капризна, но чрезвычайно щедра. Человек, занимающийся фотографией, подобен чудотворцу; ведь он делает совершенно немыслимое, со здравой точки зрения: останавливает поток времени. Пусть только так, делая тонюсенький временной “срез”. Но сколько нужно было пройти цивилизации, чтобы этот процесс стал реализуемым!
Возможно, с годами притупляется чувство необъяснимого ликования, когда на отпечатке, проявляемом в кювете, появляются сначала слабые контуры, а затем и само изображение. Но тот, кто это чувство испытал, поймет меня: в первые разы это действительно похоже на волшебство. К сожалению, вырастает целое поколение фотографов, которые не только печатать фотографии не умеют, но и пленку в бачке проявлять. С одной стороны, это и хорошо, ведь ты имеешь возможность целиком сосредоточиться на съемке - остальное за тебя доделает техника. Но легко ли прожить без момента, когда зафиксированный тобою миг, как в волшебном зеркале в сказке, медленно предстает перед тобой... И ни будь тебя, этот момент канул бы в вечность, так и не оставив следа.
Каждый человек, взявший в руки фотоаппарат, становится членом тайной лиги борцов со временем. Может быть, мы потому и смеем называться высшими созданиями, что смеем отваживаться на такое?
И еще - власть над миром. Фотограф создает не просто фотоснимок. Это частица бытия, с которой хозяин ее вправе поступать, как ему угодно: выбросить фотографию в корзину, заключить в рамку или опубликовать в газете. А можно заретушировать детали, кажущиеся ненужными, или смонтировать свой мир. Как маленький диктатор, человек при помощи фотографии может творить метаморфозы с окружающими его вещами и людьми, одновременно не причиняя никому и ничему вреда (что многие могут оспорить). В этом смысле каждый фотоснимок - очередная попытка сотворить мир, пусть и игрушечный.
Сотворение мира - дело чрезвычайно тонкое и благородное, но и в быту нашем фотография - вещь необходимая. А посему хочу воспеть те фотографии родных, которые мы вставляем в рамки, носим с собой в бумажниках, и бережно храним в семейных альбомах. Нам не нужно особенного художественного эффекта в них. Единственное, чего мы требуем от фотографа - как можно более полного сходства с оригиналом. Мне думается, что обилие семейных фотографий на стенах деревенских домов объясняется желанием их хозяев, чтобы все предки (жившие в фотографическую эру) присутствовали в жизни ныне существующих, оценивали поступки своих потомков, а иногда и помогали в трудную минуту. И мне тоже иногда не хватает подобной опоры. Так фотография воссоздает подобие “мира теней”, когда дорогие нам образы, собираясь в единый сонм, становятся частью нашего бытия.
Но до борьбы было еще далеко (точнее, до осознания этой борьбы), когда фотография только родилась. А появилась она всего лишь как забавный аттракцион. То есть, фотография - порождение “карнавальной” культуры. Но подобное утверждение вскрывает только верхний слой проблемы. Конечно же, открытие фотографии обуславливалось и другими причинами. Одна из них - все увеличивающаяся потребность человечества в информации. И в частности, в достоверной визуальной информации. У фотографии был период моды, когда общество было просто без ума от нее. Да и сейчас то и дело появляются “модные течения”. Вообще проблема генезиса фото-культуры чрезвычайно сложна и до конца не изучена, да я и не специалист в этом. Отметим одно: фотография с момента своего рождения обладала довольно своеобразным качеством - “чудесностью”.
Тогда фотограф был волшебником. Его ремесло можно было отнести к проделкам Сатаны (и относили!). Сейчас же... Конечно, ничего печального в том, что занятие фотографией потеряло черты загадочности, нет. В конце концов, прекрасно, что такой инструмент, как фотоаппарат легко подчиняется даже первокласснику. Моцарт вряд ли стал бы Моцартом, если б занялся музыкой лет в двадцать.
Фотография как таковая - не искусство. Это - инструмент. Отсюда всеобщее заблуждение, что овладение инструментом в совершенстве есть уже гарантия успеха. Но фотограф живет не в своем ремесле - он живет в мире. Фотография помогает ему лучше понимать, чувствовать мир. Один из мудрецов определил фотографию как инструмент эмоционального постижения мира. А мы часто совершаем ошибку, ставя во главу угла хороший снимок, даже не задаваясь вопросом: а приблизил ли этот снимок меня к пониманию бытия?
...Кто из нас не испытывал особого, необъяснимого подъема, посетив места своего детства, в которых не был давным-давно? Часто в своих воспоминаниях о детских годах мы представляем себе это место в особой сказочно-романтичной окраске. Тогда все было странным, таинственным и живым... Сейчас же, находясь в прочных оковах логического мышления, уже трудно находить сказочное в таком прозаическом мире. Тем не менее человек до конца своих лет хранит в душе это первое детское впечатление, вплоть до преклонения перед ним. Недаром многие, отжив свой век, едут умирать на Родину.
...Достоверно ли натуралистический снимок отражает реальность? Нет, конечно, ведь фотография допускает ряд условностей: двухмерность, ахроматичность черно-белых снимков и нарушения цветопередачи цветных, градационные искажения, нерезкость планов. Более того - даже зеркала отражают действительность с множеством “упущений”. Неполность отражения позволяет фотоснимок отнести к разряду моделей. Фотографическое произведение является моделью, выделяющей определенные ценности. Это - модель творческая, поскольку содержит значительно больше информации, чем выражает. То есть, художник вкладывает в свое произведение то, что сам порой и не сознает, восхищение зрителя порой для него оказывается полной неожиданностью. Разве не было такого в вашей практике, когда знакомые превозносили вашу фотографию, в то время как сами вы считали ее чуть ль не браком?
Фотографии по природе ее мир чужд. Именно чуждость камеры внушала многим и многим на протяжении ста семидесяти лет стойкую нелюбовь к этому прибору. Многие меняли негативную точку зрения, а кто-то до конца своих дней оставался ярым врагом фотографии... Читатель, возможно удивляется такому повороту в рассуждениях автора: начинал с восторженных слов о фотографии, и вдруг - резкие слова о чуждости ее человеку! В этом как-то не шибко много логики...
С древности люди различали внутреннюю и внешнюю формы красоты (у греков “калос” и “каллос” означали “прекрасное” и “красивое”). О форме, как правило, говорят “красиво” (“уродливо”). Но понятия “прекрасное” (“безобразное”) вряд ли подходят к оценке внешности. Понятие прекрасного находится в каком-то внутреннем родстве с этическим понятием “доброго”. Красоту же сознание человека связывает с чем-то обманчивым, “холодным” (зато истина - красива!), предполагающее даже наличие злого духа. Равнодушный фотоаппарат и пристрастность вплоть до предрассудочности нашей оценки внешней оболочки мира - неплохая “связочка” - не правда ли? Но вот фотоаппарат берет в руки человек…
И человек с фотокамерой в руках вынужден преодолевать абсолютную объективность этого прибора. Фотограф призван (кем?..) занять парадоксальную позицию: одновременно ощущать себя частью фиксируемого мира и быть как бы в стороне от него, наблюдать этот мир в видоискатель камеры.
Фотоаппарат становится средством “отстранения” фотографа от мира, вплоть до отчуждения. “Отстраняясь”, фотограф как бы играет роль некоего бестелесного духа. Он стремится стать в идеале виртуально невидимым существом (но он видим!...). Он уже не человек и - человек одновременно. Он входит в эту роль для того, возможно, чтобы рассказать людям, что может видеть этот “дух”. Вот он витает над миром и заглядывает в глаза людей, удивляясь необычности вида привычных, казалось бы, предметов, пытаясь понять: кто или что главное в этой “каше“? Зачем все это, и куда оно движется?...
Ремеслом фотографии заняты многие и многие, но кто из них обладает искусством... восхищения? Я уверен, что таких людей тоже много, правда, большинство из них не разу не брали в руки фотоаппарат. Те же, кто знает толк фототехнике, - прекрасные ремесленники, имеющие весьма сомнительную принадлежность к “гильдии” художников. Четкой границы между художником и нехудожником не существует - и слава Богу! Я даже хотел бы, чтобы существовал некий фундаментальный запрет, не позволяющий провести эту границу, иначе, если начнется дифференциация, такое будет - что и представить страшно...
Многие из людей, берущих в руки фотоаппарат, думают, что прикосновение к красоте будет одаривать их только хорошими эмоциями. Наверное, поэтому фотолюбителей - такая огромная армия. Большинство не мучается проклятыми вопросами и регулярно воспроизводит бесконечные (но не становящимися пошлыми!) закаты. Возможно, качественно сфотографированный закат и может быть назван произведением искусства. Вся беда в том, что зрители в большинстве принимают данное творение именно за высокое искусство. Но это вовсе не страшно; не будем забывать, что фотография - не более чем средство, и, если ты увидел что-то красивое в природе, не грех этой красотой поделиться с другими, тем более что и в фотографическом пейзаже есть много путей к совершенству. Страшнее … Продолжение »
|
Библиотечка
(книги о фотографии для чтения на мобильных устройствах в формате FB2; для начала скачивания достаточно кликнуть на названии либо на иконке внизу этой страницы):
Вальтер Беньямин
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ
Туман, окутывающий истоки фотографии, все же не такой густой, как тот, что скрывает начало книгопечатания; более ясно проявляется в этом случае, что в момент, когда пробил час открытия, это почувствовало сразу несколько человек; независимо друг от друга они стремились к одной цели: сохранить изображения, получаемые в camera obscura, известные по крайней мере со времени Леонардо. Когда после примерно пятилетних поисков это одновременно удалось сделать Ньепсу и Дагерру, государство, воспользовавшись патентными сложностями, с которыми столкнулись изобретатели, вмешалось в это дело и произвело его, выплатив им компенсацию, в ранг общественной деятельности. Таким образом были созданы предпосылки для длительного ускоренного развития, что не давало возможности оглянуться назад. Вот и получилось, что исторические или, если угодно, философские вопросы, поднятые взлетом и падением фотографии, десятилетиями оставались без внимания. И если сегодня они начинают осознаваться, то тому есть ясная причина. Новейшая литература указывает на то обстоятельство, что расцвет фотографии связан с деятельностью Хилла и Камерон, Гюго и Надара [1] -- то есть приходится на ее первое десятилетие. Но это и десятилетие, которое предшествовало ее индустриализации. Это не значит, будто в это раннее время рыночные торговцы и шарлатаны не старались использовать новую технику как источник наживы; это делалось, и даже часто. Но это было гораздо ближе к ярмарочным искусствам -- на ярмарке же фотография до наших дней была как дома -- чем к индустрии. Наступление индустрии в этой области началось с использования фотографии для изготовления визитных карточек; характерно, что человек, впервые воспользовавшийся фотографией в этих целях, стал миллионером. Было бы неудивительно, если бы особенности фотографической практики, сегодня впервые обращающие наше внимание на этот доиндустриальный расцвет фотографии, скрытым образом были бы связаны с кризисом капиталистической индустрии. Это однако никак не облегчает задачу использовать прелесть снимков, содержащихся в недавно появившихся замечательных публикациях по старой фотографии [a], для действительного проникновения в ее сущность. Попытки теоретического осмысления проблемы совершенно рудиментарны. И сколь продолжительны ни были дебаты по этому поводу в прошлом веке, они по сути не отошли от той комичной схемы, с помощью которой в свое время шовинистский листок, "Лейпцигер анцайгер", намеревался остановить распространение французской заразы. "Стремление сохранить мимолетные отражения, -- писала газета, -- дело не только невозможное, как выяснилось после проведения основательного немецкого расследования, но и одно только желание сделать это есть богохульство. Человек создан по подобию Божию, а образ Божий не может быть запечатлен никакой человеческой машиной. Разве что божественный художник может дерзнуть, вдохновленный небесами, воспроизвести богочеловеческие черты безо всякой машинной помощи в минуты наивысшего вдохновения и повинуясь высшему приказу своего гения." Это проявление обывательского понятия "искусства" во всей его тяжеловесной неуклюжести, понятия, которому чуждо какое бы то ни было участие техники и которое чувствует с вызывающим появлением новой техники приближение своего конца. Тем не менее именно на этом фетишистском, изначально антитехническом понятии искусства теоретики фотографии почти столетие пробовали строить дискуссию, разумеется без малейшего результата. Ведь они пытались получить признание фотографа именно от той инстанции, которую он отменял.
Туман, окутывающий истоки фотографии, все же не такой густой, как тот, что скрывает начало книгопечатания; более ясно проявляется в этом случае, что в момент, когда пробил час открытия, это почувствовало сразу несколько человек; независимо друг от друга они стремились к одной цели: сохранить изображения, получаемые в camera obscura, известные по крайней мере со времени Леонардо. Когда после примерно пятилетних поисков это одновременно удалось сделать Ньепсу и Дагерру, государство, воспользовавшись патентными сложностями, с которыми столкнулись изобретатели, вмешалось в это дело и произвело его, выплатив им компенсацию, в ранг общественной деятельности. Таким образом были созданы предпосылки для длительного ускоренного развития, что не давало возможности оглянуться назад. Вот и получилось, что исторические или, если угодно, философские вопросы, поднятые взлетом и падением фотографии, десятилетиями оставались без внимания. И если сегодня они начинают осознаваться, то тому есть ясная причина. Новейшая литература указывает на то обстоятельство, что расцвет фотографии связан с деятельностью Хилла и Камерон, Гюго и Надара [1] -- то есть приходится на ее первое десятилетие. Но это и десятилетие, которое предшествовало ее индустриализации. Это не значит, будто в это раннее время рыночные торговцы и шарлатаны не старались использовать новую технику как источник наживы; это делалось, и даже часто. Но это было гораздо ближе к ярмарочным искусствам -- на ярмарке же фотография до наших дней была как дома -- чем к индустрии. Наступление индустрии в этой области началось с использования фотографии для изготовления визитных карточек; характерно, что человек, впервые воспользовавшийся фотографией в этих целях, стал миллионером. Было бы неудивительно, если бы особенности фотографической практики, сегодня впервые обращающие наше внимание на этот доиндустриальный расцвет фотографии, скрытым образом были бы связаны с кризисом капиталистической индустрии. Это однако никак не облегчает задачу использовать прелесть снимков, содержащихся в недавно появившихся замечательных публикациях по старой фотографии [a], для действительного проникновения в ее сущность. Попытки теоретического осмысления проблемы совершенно рудиментарны. И сколь продолжительны ни были дебаты по этому поводу в прошлом веке, они по сути не отошли от той комичной схемы, с помощью которой в свое время шовинистский листок, "Лейпцигер анцайгер", намеревался остановить распространение французской заразы. "Стремление сохранить мимолетные отражения, -- писала газета, -- дело не только невозможное, как выяснилось после проведения основательного немецкого расследования, но и одно только желание сделать это есть богохульство. Человек создан по подобию Божию, а образ Божий не может быть запечатлен никакой человеческой машиной. Разве что божественный художник может дерзнуть, вдохновленный небесами, воспроизвести богочеловеческие черты безо всякой машинной помощи в минуты наивысшего вдохновения и повинуясь высшему приказу своего гения." Это проявление обывательского понятия "искусства" во всей его тяжеловесной неуклюжести, понятия, которому чуждо какое бы то ни было участие техники и которое чувствует с вызывающим появлением новой техники приближение своего конца. Тем не менее именно на этом фетишистском, изначально антитехническом понятии искусства теоретики фотографии почти столетие пробовали строить дискуссию, разумеется без малейшего результата. Ведь они пытались получить признание фотографа именно от той инстанции, которую он отменял.
Спрошу я: каким был глаз этих блеск,
как эти локоны вились, лицо оттеняя
как целовали уста, сладострастия всплеск,
словно без пламени дым, возгоняя. [3]
Или если посмотреть на снимок фотографа Даутендея, отца поэта [4], изображающий его в то время, когда он был женихом женщины, которую он годы спустя, после рождения шестого ребенка, нашел в их московской квартире с перерезанными венами. На фото они стоят рядом, он словно держит ее, однако взгляд ее направлен мимо него, впившись в роковую даль. Если достаточно долго быть погруженным в созерцание такого снимка, становится понятным, насколько тесно и здесь соприкасаются противоположности: точнейшая техника в состоянии придать ее произведениям магическую силу, какой для нас уже никогда больше не будет обладать нарисованная картина. Вопреки всякому искусству фотографа и послушности его модели зритель ощущает неудержимое влечение, принуждающее его искать в таком изображении мельчайшую искорку случая, здесь и сейчас, которым действительность словно прожгла характер изображения, найти то неприметное место, в котором, в так-бытии той давно прошедшей минуты будущее продолжает таиться и сейчас, и притом так красноречиво, что мы, оглядываясь назад, можем его обнаружить. Ведь природа, обращенная к камере -- это не та природа, что обращена к глазу; различие прежде всего в том, что место пространства, освоенного человеческим сознанием, занимает пространство, освоенное бессознательным. Например, достаточно привычно, что мы, пусть в самом грубом виде представляем себе, как ходят люди, однако наверняка ничего не знаем о том, каково их положение в ту долю секунды, когда они начинают шаг. Фотография своими вспомогательными средствами: короткой выдержкой, увеличением -- открывает ему это положение. Об этом оптически-бессознательном он узнает только с ее помощью, так же как о бессознательном в сфере своих побуждений он узнает с помощью психоанализа. Организованные структуры, ячейки и клетки, с которыми обычно имеют дело техника и медицина, -- все это изначально гораздо ближе фотокамере, чем пейзаж с настроением или проникновенный портрет. В то же время фотография открывает в этом материале физиогномические аспекты, изобразительные миры, обитающие в мельчайших уголках, понятно и укромно в той степени, чтобы находить прибежище в видениях, однако теперь, став большими и явно формулируемыми, они оказываются способными открыть различие техники и магии как исторические переменные. Так например, Блосфельдт [b] своими удивительными фотографиями растений смог обнаружить в полых стебельках формы древнейших колонн, в папоротнике -- епископский жезл, в десятикратно увеличенном ростке каштана и клена -тотемные столбы, в листьях ворсянки -- ажурный готический орнамент [5]. Потому вполне можно сказать, что модели фотографов вроде Хилла были не так далеки от правды, когда "феномен фотографии" представлялся им еще "большим таинственным приключением"; даже если для них это было не больше чем сознание того, что ты "стоишь перед аппаратом, который в кратчайшее время способен создать изображение видимого мира, изображение, кажущееся таким же живым и подлинным, как и сама природа". О камере Хилла говорили, что она проявляет тактичную сдержанность. Его модели, в свою очередь, не менее сдержанны; они сохраняют некоторую робость перед аппаратом, и принцип одного из более поздних фотографов периода расцвета: "никогда не смотри в камеру", -- мог бы быть выведен из их поведения. Однако при этом не имелось в виду то самое "посмотреть на тебя" у зверей, людей и маленьких детей, в которое таким нечестивым образом примешивается покупатель, и которому нет лучшего противопоставления, чем манера описания, в которой старик Даутендай повествует о первых дагерротипах: "Поначалу... люди не отваживались, -- сообщает он, -- долго рассматривать первые изготовленные им снимки. Они робели перед четкостью изображенных и были готовы поверить, что крошечные лица на снимках способны сами смотреть на зрителя, таково было ошеломляющее воздействие непривычной четкости и жизненности первых дагерротипов на каждого".
Эти первые репродуцированные люди вступали в поле зрения фотографии незапятнанными, или, сказать вернее, без подписи. Газеты еще были большой роскошью, их редко покупали и чаще всего просматривали в кафе, фотография еще не стала частью газетного дела, еще очень немногие могли прочесть свое имя на газетных страницах. Человеческое лицо было обрамлено молчанием, в котором покоился взгляд. Короче говоря, все возможности этого искусства портрета основывались на том, что фотография еще не вступила в контакт с актуальностью. Многие фотографии Хилла были сделаны на эдинбургском кладбище францисканцев -- это чрезвычайно характерно для начала фотографии, еще более примечательно разве то, что модели чувствуют себя там как дома. Это кладбище и в самом деле выглядит на одном из снимков Хилла как интерьер, как уединенное, отгороженное пространство, где, прислоняясь к брандмауэрам, из травы вырастают надгробия, полые, словно камины, открывающие в своем чреве вместо языков пламени строки надписей. Однако это место никогда не оказывало бы такого воздействия, если бы его выбор не был обоснован технически. Слабая светочувствительность ранних пластинок требовала длительной выдержки при натурных съемках. По той же причине казалось предпочтительным помещать снимаемых людей по возможности в уединении, в месте, где ничто не мешало бы их сосредоточению. "Синтез выражения, вынужденно возникающий от того, что модель должна долгое время быть неподвижной, -- говорит Орлик о ранней фотографии, -- является основной причиной того, что эти изображения при всей их простоте подобно хорошим рисункам и живописным портретам оказывают на зрителя более глубокое и долгое воздействие, чем более поздние фотографии." Сама техника побуждала модели жить не от мгновения к мгновению, а вживаться в каждый миг; во время длинной выдержки этих снимков модели словно врастали в изображение и тем самым вступали в самый решительный контраст с явлениями на моментальном снимке, отвечающем тому изменившемуся окружению, в котором, как точно заметил Кракауэр, от той же самой доли секунды, которую продолжается фотосъемка, зависит, "станет ли спортсмен таким знаменитым, что фотографы будут снимать его по заданию иллюстрированных еженедельников". Все в этих ранних снимках было ориентировано на длительное время; не только несравненные группы, которые собирались для съемки -- а их исчезновение было одним из вернейших симптомов того, что произошло в обществе во второй половине столетия -- даже складки, в которые собирается на этих изображениях одежда, держатся дольше. Достаточно лишь взглянуть на сюртук Шеллинга [6]; он совершенно определенно готов отправиться в вечность вместе с его хозяином, его складки не менее значимы, чем морщины на лице философа. Короче говоря, все подтверждает правоту Бернарда фон Брентано, предположившего, "что в 1850 году фотограф находился на той же высоте, что и его инструмент" -- в первый и на долгое время в последний раз. Впрочем, чтобы полностью ощутить мощное воздействие дагерротипии в эпоху ее открытия, следует учитывать, что пленэрная живопись начала в то время открывать наиболее продвинутым из художников совершенно новые перспективы. Сознавая, что именно в этом отношении фотография должна подхватить эстафету у живописи, Араго со всей определенностью и говорит в историческом очерке, посвященном ранним опытам Джованни Баттиста Порта: "Что касается эффекта, возникающего от не полной прозрачности нашей атмосферы (и который обозначают не совсем точным выражением "воздушная перспектива"), то даже мастера живописи не надеются, что camera obscura" -- речь идет о копировании получаемых в ней изображений -- "могла бы помочь в воспроизведении этого эффекта". В тот момент, когда Дагерру удалось запечатлеть изображения, получаемые в camera obscura, художник был смещен с этого поста техником. Все же истинной жертвой фотографии стала не пейзажная живопись, а портретная миниатюра. События развивались так быстро, что уже около 1840 года большинство бесчисленных портретистов-миниатюристов стало фотографами, сначала наряду с живописной работой, а скоро исключительно. Опыт их первоначальной профессии оказался полезен, причем не художественная, а именно ремесленная выучка обеспечила высокий уровень их фоторабот. Лишь постепенно сошло со сцены это поколение переходного периода; кажется, будто эти первые фотографы -- Надар, Штельцнер, Пирсон, Баяр -- получили благословение библейских патриархов: все они приблизились к девяноста или ста годам. Но в конце концов в сословие профессиональных фотографов хлынули со всех сторон деловые люди, а когда затем получила повсеместное распространение ретушь негативов -- месть плохих художников фотографии -- начался быстрый упадок вкуса. Это было время, когда начали наполняться фотоальбомы. Располагались они чаще всего в самых неуютных местах квартиры, на консоли или маленьком столике в гостиной: кожаные фолианты с отвратительной металлической окантовкой и толстенными листами с золотым обрезом, на которых размещались фигуры в дурацких драпировках и затянутых одеяниях -- дядя Алекс и тетя Рикхен, Трудхен, когда она еще была маленькой, папочка на первом курсе, и, наконец, в довершение позора, мы сами: в образе салонного тирольца, распевающего тирольские песни и размахивающего шляпой на фоне намалеванных горных вершин, или в образе бравого матроса, ноги, как полагается морскому волку, враскорячку, прислонившись к полированному поручню. Аксессуары таких портретов -- постаменты, балюстрады и овальные столики -- еще напоминают о том времени, когда из-за длительной выдержки приходилось создавать для моделей точки опоры, чтобы они могли оставаться долгое время неподвижными. Если поначалу было достаточно приспособлений для фиксации головы и коленей, то вскоре "последовали прочие приспособления, подобные тем, что использвались в знаменитых живописных изображениях и потому представлялись "художественными". Прежде всего это были -- колонна и занавес". Против этого безобразия более способные мастера были вынуждены выступить уже в шестидесятые годы. Вот что тогда писали в одном специальном английском издании: "Если на живописных картинах колонна выглядит правдоподобной, то способ ее применения в фотографии абсурден, ибо ее обычно устанавливают на ковре. Между тем каждому ясно, что ковер не может служить фундаментом для мраморной или каменной колонны". Тогда-то и появились эти фотостудии с драпировками и пальмами, гобеленами и мольбертами, про которые трудно сказать -- то ли они были для мучения, то ли для возвеличивания; то ли это была камера пыток, то ли тронный зал -- потрясающим свидетельством их деятельности служит ранняя фотография Кафки. На ней мальчик лет шести, одетый в узкий, словно смирительный костюм со множеством позументов, изображен в обстановке, напоминающей зимний сад. В глубине торчат пальмовые ветви. И словно для того, чтобы сделать эти плюшевые тропики еще более душными и тяжелыми, в левой руке он держит невероятно большую шляпу с широкими полями, на испанский манер. Конечно, мальчик бы исчез в этом антураже, если бы непомерно печальные глаза не одолели навязанную им обстановку.
Своей безбрежной печалью этот снимок контрастирует с ранними фотографиями, на которых люди еще не получили такого выражения потерянности и отрешенности, как этот мальчик. Их окружала аура, среда, которая придавала их взгляду, проходящему сквозь нее, полноту и уверенность. И снова очевиден технический эквивалент этой особенности; он заключается в абсолютной непрерывности перехода от самого яркого света до самой темной тени. Между прочим, закон предвосхищения новых достижений силами старой техники проявляется и в этом случае, а именно в том, что прежняя портретная живопись накануне своего падения породила уникальный расцвет гумми-арабиковой печати. Речь шла о репродукционной технике, которая соединилась с фотографической репродукцией лишь позднее. Как на графических листах, выполненных этой печатью, на снимках такого фотографа, как Хилл, свет с усилием прорывается сквозь темноту: Орлик говорит о вызванной долгой выдержкой "обобщающей светокомпозиции", придающей "этим ранним фотоснимкам свойственное им величие". А среди современников открытия уже Деларош отметил ранее "не достижимое, великолепное, ничем не нарушающее спокойствие масс" общее впечатление. Это о технической основе, порождающей ауру. В особенности некоторые групповые снимки фиксируют мимолетное единение, на короткое
время появляющееся на пластинке, перед тем как оно будет разрушено "оригинальным снимком". Именно эта атмосфера изящно и символично очерчивается ставшей уже старомодной овальной формой паспарту для фотографий. Поэтому о полном непонимании этих фотографических инкунабул говорит стремление подчеркнуть в них "художественное совершенство" или "вкус". Эти снимки возникали в помещениях, в которых каждый клиент встречался в лице фотографа прежде всего с техником нового поколения, а каждый фотограф в лице клиента -- с представителем восходящего социального класса со свойственной ему аурой, которая проглядывала даже в складках сюртука и шейном платке. Ведь эта аура не была прямым продуктом примитивной камеры. Дело в том, что в этот ранний период объект и техника его воспроизведения так точно совпадали друг с другом, в то время как в последующий период декаданса они разошлись. Вскоре развитие оптики создало возможность преодоления тени и создания зеркальных изображений. Однако фотографы в период после 1880 года видели свою задачу в основном в том, чтобы симулировать ауру, исчезнувшую со снимков вместе с вытеснением тени светосильными объективами, точно так же, как аура исчезла из жизни с вырождением империалистической буржуазии, -- симулировать всеми ухищрениями ретуши, в особенности же так называемой гумми-арабиковой печатью. Так стал модным, особенно в стиле модерн, сумеречный тон, перебиваемый искусственными отражениями; однако вопреки сумеречному освещению все яснее обозначалась поза, неподвижность которой выдает бессилие этого поколения перед лицом технического прогресса.
И все же решающим в фотографии оказывается отношение фотографа к своей технике. Камиль Рехт выразил это в изящном сравнении. "Скрипач, -- говорит он, -- должен сначала создать звук, мгновенно поймать ноту; пианист же нажимает на клавишу -- нота звучит. И у художника, и у фотографа есть свои инструменты. Рисунок и колорит художника сродни извлечению звука скрипачом, у фотографа общее с пианистом состоит в том, что его действия в значительной степени -- не сравнимой с условиями скрипача -- предопределены техникой, налагающей свои ограничения. Ни один пианист-виртуоз, будь то сам Падеревский, не достигнет той славы, не добьется того почти сказочного очарования публики, каких достигал и добивался Паганини." Однако у фотографии, если уж продолжать это сравнение, есть свой Бузони, это Атже. [7] Оба были виртуозами, в то же время и предтечами. Их объединяет беспримерная способность растворяться в своем ремесле, соединенная с величайшей точностью. Даже в их чертах есть нечто родственное. Атже был актером, которому опротивело его ремесло, который снял грим, а затем принялся делать то же самое с действительностью, показывая ее неприкрашенное лицо. Он жил в Париже бедным и безвестным, свои фотографии сбывал за бесценок любителям, которые едва ли были менее эксцентричными, чем он сам, а не так давно он распрощался с жизнью, оставив после себя гигантский опус в более чем четыре тысячи снимков. Береник Эббот из Нью-Йорка собрала эти карточки, избранные работы только что вышли в необычайно красивой книге [c] , подготовленной Камилем Рехтом. Современная ему пресса "ничего не знала об этом человеке, который ходил со своими снимками по художественным мастерским, отдавая их почти даром, за несколько монет, часто по цене тех открыток, которые в начале века изображали такие красивенькие сцены ночного города с нарисованной луной. Он достиг полюса высочайшего мастерства; но из упрямой скромности великого мастера, который всегда держится в тени, он не захотел установить там свой флаг. Так что кое-кто может считать себя открывателем полюса, на котором Атже уже побывал." В самом деле: парижские фото Атже -- предвосхищение сюрреалистической фотографии, авангард одной-единственно действительно мощной колонны, которую смог двинуть вперед
сюрреализм. Он первым продезинфицировал удушающую атмосферу, которую распространил вокруг себя фотопортрет эпохи упадка. Он очищал эту атмосферу, он очистил ее: он начал освобождение объекта от ауры, которая составляла несомненное достоинство наиболее ранней фотографической школы. Когда журналы авангардистов "Bifur" или "Variete" публикуют с подписями "Вестминстер", "Лилль", "Антверпен" или "Вроцлав" лишь снимки деталей: то кусок балюстрады, то голую верхушку дерева, сквозь ветви которой просвечивает уличный фонарь, то брандмауэр или крюк с висящим на нем спасательным кругом, на котором написано название города, -- то это не более чем литературное обыгрывание мотивов, открытых Атже. Его интересовало забытое и заброшенное, и потому эти снимки также обращаются против экзотического, помпезного, романтического звучания названий городов; они высасывают ауру из действительности, как вода из тонущего корабля.
Что такое, собственно говоря, аура? Странное сплетение места и времени: уникальное ощущение дали, как бы близок при этом рассматриваемый предмет ни был. Скользить взглядом во время летнего полуденного отдыха по линии горной гряды на горизонте или ветви, в тени которой расположился отдыхающий, пока мгновение или час со-причастны их явлению -- значит вдыхать ауру этих гор, этой ветви. Стремление же "приблизить" вещи к себе, точнее -- массам -- это такое же страстное желание современных людей, как и преодоление уникального в любой ситуации через его репродуцирование. Изо дня в день все более неодолимо проявляется потребность владеть предметом в непосредственной близости в его изображении, скорее в репродукции. А репродукция, как показывают иллюстрированный еженедельник или кинохроника, несомненно отличается от изображения. В изображении уникальность и длительность так же тесно соединены, как мимолетность и повторяемость в репродукции. Очищение предмета от его оболочки, разрушение ауры представляют собой характерный признак того восприятия, у которого чувство однотипного относительно ко всему в этом мире настолько выросло, что оно с помощью репродукции добивается однотипности даже от уникальных явлений. Атже почти всегда проходил мимо "величественных видов и так называемых символов", но не пропускал длинный рад сапожных колодок, не проходил мимо парижских дворов, где с вечера до утра стоят рядами ручные тележки, мимо не убранных после еды столов или скопившейся в огромном количестве грязной посуды, мимо борделя на незнамо какой улице в доме №5, о чем свидетельствует огромная пятерка, которая красуется на четырех разных местах фасада. Как ни странно, на этих снимках почти нет людей. Пусты ворота Порт д'Аркей у бастионов, пусты роскошные лестницы, пусты дворы, пусты террасы кафе, пуста, как обычно, площадь Плас дю Тертр. Они не пустынны, а лишены настроения; город на этих снимках очищен, словно квартира, в которую еще не въехали новые жильцы. Таковы результаты, которые позволили сюрреалистической фотографии подготовить целительное отчуждение между человеком и его окружением. Она освобождает поле для политически наметанного глаза, который опускает все интимные связи ради точности отражения деталей.
Совершенно ясно, что этот новый взгляд менее всего мог развиться там, где раньше фотография чувствовала себя наиболее уверенно: в платных, репрезентативных портретных съемках. С другой стороны, отказ от человека оказывается для фотографии делом почти невозможным. Кто этого еще не знал, того научили этому лучшие русские фильмы, показавшие, что и окружающая человека среда и пейзаж открываются только тому из фотографов, кто может постигнуть их в безымянном отражении, возникающем в человеческом лице. Однако возможность этого опять-таки в значительной степени зависит от того, кого снимают. Поколение, которое не было одержимо идеей запечатлеть себя на фотографиях для потомков и, сталкиваясь с такой необходимостью, скорее было склонно несколько робко вжиматься в свою привычную, обжитую обстановку -- как Шопенгауэр на своей франкфуртской фотографии 1850 года в глубь кресла -- именно поэтому, однако, запечатлевало вместе с собой на пластинке и этот мир: этому поколению его достоинства достались не по наследству. Русское игровое кино впервые за несколько десятилетий дало возможность показаться перед камерой людям, у которых нет надобности в своих фотографиях. И сразу же человеческое лицо приобрело в съемке новое, огромное значение. Но это был уже не портрет. Что это было? Выдающейся заслугой одного немецкого фотографа было то, что он дал ответ на этот вопрос. Август Зандер [d] [8] собрал серию портретов, которые ни в чем не уступают мощной физиономической галерее, открытой такими мастерами, как Эйзенштейн или Пудовкин, и сделал он это в научном аспекте. "Созданная им коллекция складывается из семи групп, соответствующих существующему общественному укладу, и должна быть опубликована в 45 папках по 12 снимков в каждой". До сих пор опубликована лишь книга с избранными 60 фотографиями, дающими неисчерпаемый материал для наблюдений. "Зандер начинает с крестьянина, человека, привязанного к земле, ведет зрителя через все слои и профессиональные группы, поднимаясь до представителей высшей цивилизации и опускаясь до идиота". Автор приступил к этой колоссальной задаче не как ученый, не как человек, следующий советам антропологов или социологов, а, как говорится в предисловии, "опираясь на непосредственные наблюдения". Наблюдения эти были несомненно чрезвычайно непредвзятыми, более того, смелыми, в то же время, однако, и деликатными, а именно в духе сказанного Гёте: "есть деликатная эмпирия, которая самым интимным образом отождествляет себя с предметом и тем самым становится настоящей теорией". В соответствии с этим вполне законно, что такой наблюдатель как Дёблин [9] обратил внимание как раз на научные моменты этого труда и замечает: "Подобно сравнительной анатомии, благодаря которой только и можно познать природу и историю органов, этот фотограф занялся сравнительной фотографией и тем самым занял научную позицию, поднимающую его над теми, кто занимается частными видами фотографии". Будет чрезвычайно жаль, если экономические условия не позволят продолжить публикацию этого корпуса. Издательству же можно было бы помимо этого общего указать еще на один более конкретный мотив публикации. Произведения, подобные созданному Зандером, могут мгновенно приобрести неожиданную актуальность. Изменения во властных структурах, ставшие у нас привычными, делают жизненной необходимостью развитие, обострение физиогномических способностей. Представляет человек правых или левых -- он должен привыкнуть к тому, что его будут распознавать с этой точки зрения. В свою очередь он сам будет распознавать таким образом других. Творение Зандера не просто иллюстрированное издание: это учебный атлас.
"В нашу эпоху нет произведения искусства, которое созерцали бы так внимательно, как свою собственную фотографию, фотографии ближайших родственников и друзей, возлюбленной", -- писал уже в 1907 году Лихтварк, переводя тем самым исследование из области эстетических признаков в область социальных функций. Только из этой позиции оно может продвигаться дальше.
Показательно в этом отношении, что дискуссия менее всего продвигалась в тех случаях, когда разговор шел об эстетике "фотографии как искусства", в то время как, например, гораздо менее спорный социальный факт "искусство как фотография" не удостаивают даже беглого рассмотрения. И все же воздействие фотографических репродукций произведений искусства на функции искусства гораздо важнее, чем более или менее художественная композиция фотографии, "схватывающей" какой-либо жизненный момент. В самом деле, возвращающийся домой фотолюбитель со множеством сделанных художественных снимков представляет собой не более отрадное явление, чем охотник, возвращающийся из засады с таким количеством дичи, которое имело бы смысл, только если бы он нес ее на продажу. Похоже, что и в самом деле иллюстрированных изданий скоро станет больше, чем лавок, торгующих дичью и птицей. Это о том, как "щелкают", снимая все подряд. Однако акценты полностью меняются, когда от фотографии как искусства переходят к искусству как фотографии. Каждый имел возможность убедиться, насколько легче взять в объектив картину, а еще более того скульптуру или тем более архитектурное сооружение, чем явления действительности. Тут же возникает искушение списать это на упадок художественного чутья, на неумелость современников. Однако ему противоречит понимание того, насколько примерно в то же время с развитием репродукционной техники изменилось восприятие великих произведений искусства. На них уже нельзя смотреть как на произведения отдельных людей; они стали коллективными творениями, настолько мощными, что для того, чтобы их усвоить, их необходимо уменьшить. В конечном итоге репродукционная техника представляет собой уменьшающую технику и делает человеку доступной ту степень господства над произведениями искусства, без которой они не могут найти применения.
Если что и определяет сегодняшние отношения между искусством и фотографией, то это не снятое напряжение, возникшее между ними из-за фотографирования произведений искусства. Многие из тех, кто как фотограф определяет сегодняшнее лицо этой техники, пришли из изобразительного искусства. Они отвернулись от него после попыток установить живую, ясную связь его выразительных средств с современной жизнью. Чем острее было их ощущение духа времени, тем все более сомнительной становилась для них их исходная точка. Так же как и восемьдесят лет назад фотография приняла эстафету у живописи. "Творческие возможности нового, -- говорит Мохой-Надь, [10] -- по большей части медленно открываются такими старыми формами, инструментами и областями искусства, которые в принципе уничтожаются с появлением нового, однако под давлением готовящегося нового они оказываются вовлеченными в эйфорическую активизацию. Так, например, футуристическая (статическая) живопись ввела в искусство позднее уничтожившую ее, четко очерченную проблематику синхронности движения, изображения мгновенного состояния; и это в то время, когда кино было известно, но еще далеко не понято... Точно так же можно -- с известной осторожностью -- рассматривать некоторых из работающих сегодня с изобразительно-предметными средствами художников (неоклассицистов и веристов) как предтеч новой изобразительной оптической техники, которая скоро будет пользоваться только механическими техническими средствами." А Тристан Цара [11] писал в 1922 году: "Когда все, что называлось искусством, стало страдать подагрой, фотограф зажег свою тысячесвечовую лампу и светочувствительная бумага постепенно впитала в себя черный цвет некоторых предметов обихода. Он открыл значимость нежного, девственного быстрого взгляда, который был важнее, чем все композиции, которые нам представляют для восхищенного созерцания". Фотографы, которые пришли из изобразительного искусства в фотографию не из оппортунистических соображений, не случайно, не ради удобств, образуют сегодня авангард среди своих коллег, поскольку они своей творческой биографией в определенной степени застрахованы от самой серьезной опасности современной фотографии, ремесленно-художественного привкуса. "Фотография как искусство, -- говорит Саша Стоун, -- это очень опасная область."
Покинув те отношения, в которых ею занимались такие люди как Зандер, Жермена Круль, Блосфельдт, эмансипируясь от физиогномических, политических, научных интересов, фотография становится "творческой". Делом объектива становится "обзор событий", появляется бульварный фоторепортер. "Дух, одолевая механику, преобразует ее точные результаты в жизненные притчи." Чем дальше развивается кризис современного социального устройства, чем крепче его отдельные моменты застывают, образуя мертвые противоречия, тем больше творческое -- по своей глубинной сути вариант, контраст его отец, а имитация его мать -- становится фетишем, черты которого обязаны своей жизнью лишь смене модного освещения. Творческое в фотографии -- следование моде. "Мир прекрасен" -- именно таков ее девиз. В нем разоблачает себя та фотография, которая готова вмонтировать во вселенную любую консервную банку, но не способна понять ни одного из тех человеческих отношений, в которые она вступает, и которая в своих сомнамбулических сюжетах оказывается скорее предтечей ее продажности, чем познания. Поскольку же истинным лицом этого фотографического творчества является реклама и ассоциация, то ее законной противоположностью выступают разоблачение и конструкция. Ведь положение, отмечает Брехт, "столь сложно потому, что менее чем когда-либо простое /воспроизведение реальности/ что-либо говорит о реальности. Фотография заводов Круппа или концерна АЕС почти ничего не сообщает об этих организациях. Истинная реальность ускользнула в сферу функционального. Опредмеченность человеческих отношений, например на фабрике, больше не выдает этих отношений. Потому действительно необходимо /нечто строить/, нечто /искусственное/, нечто /заданное/". [12] Подготовка первопроходцев этого фотографического конструирования -- заслуга сюрреалистов. Следующий этап в этом диспуте отмечен появлением русского кино. Это не преувеличение: великие достижения его режиссеров были возможны только в стране, где фотография ориентирована не на очарование и внушение, а на эксперимент и обучение.
В этом, и только в этом смысле в импозантном приветствии, которое неуклюжий создатель многозначительных полотен, художник Антуан Вирц [13] адресовал фотографии в 1855 году, еще может быть обнаружен какой-то смысл. "Несколько лет назад была рождена -- во славу нашего столетия -- машина, изо дня в день изумляющая нашу мысль и устрашающая наш взгляд. Прежде чем пройдет век, эта машина заменит для художника кисть, палитру, краски, мастерство, опыт, терпение, беглость, точность воспроизведения, колорит, лессировку, образец, и совершенство, станет экстрактом живописи... Неправда, будто дагерротипия убивает искусство... Когда дагерротипия, этот огромный ребенок, подрастет, когда все ее искусство и сила разовьются, тогда гений схватит ее за шкирку и громко воскликнет: Сюда! Теперь ты моя! Мы будем работать вместе." Насколько по сравнению с этим трезво, даже пессимистично звучат слова, которыми четыре года спустя, в "Салоне 1859 года", представил новую технику своим читателям Бодлер. Сегодня их уже вряд ли можно, как и только что процитированные, читать без легкого смещения акцента. Однако хотя они контрастируют с последней цитатой, они вполне сохранили смысл как наиболее резкая отповедь всем попыткам узурпации художественной фотографии. "В это жалкое время возникла новая индустрия, которая в немалой степени способствовала укреплению пошлой глупости в своей вере,., будто искусство -- не что иное как точное воспроизведение природы, и не может быть ничем иным... Мстительный бог услышал голос этой толпы. Дагерр был его мессией." И дальше: "Если фотографии будет позволено дополнить искусство в одной из его функций, то оно вскоре будет полностью вытеснено и разрушено ею благодаря естественной союзнической помощи, которая будет исходить из толпы. Поэтому она должна вернуться к своей прямой обязанности, заключающейся в том, чтобы быть служанкой наук и искусств".
Одно только тогда оба, Вирц и Бодлер, не уловили -- указаний, идущих от аутентичности фотографии. Не всегда будет удаваться обойти их с помощью репортажа, клише которого нужны только для того, чтобы вызывать у зрителя словесные ассоциации. Все меньше становится камера, возрастает ее способность создавать изображения мимолетного и тайного, шок от этих снимков застопоривает ассоциативный механизм зрителя. В этот момент включается подпись, втягивающая фотографию в процесс олитературивания всех областей жизни, без ее помощи любая фотографическая конструкция останется незавершенной. Недаром снимки Атже сравнивали с фотографией места происшествия. Но разве каждый уголок наших городов -- не место происшествия? А каждый из прохожих -- не участник происшествия? Разве фотограф -- потомок Огюрна и Харуспекса -- не должен определить вину и найти виновных? Говорят, что "неграмотным в будущем будет не тот, кто не владеет алфавитом, а тот, кто не владеет фотографией". Но разве не следует считать неграмотным фотографа, который не может прочесть свои собственные фотографии? Не станет ли подпись существенным моментом создания фотографии? Это вопросы, в которых находит разрядку историческое напряжение, дистанция в девяносто лет, отделяющая живущих сейчас от дагерротипии. В свете возникающих при этом искр первые фотографии возникают из тьмы прадедовых времен, такие прекрасные и недоступные.
[a] H.T. Bossert, H.Guttman. Aus der Fruhzeit dedr Photographie. 1840-1870. Ein Bildbuch nach 200 Originalen. Frankfurt a. M., 1930. - H.Schwarz. David Octavius Hill. Der Meister der Photographie. Mit 80 Bildtafeln. Leipzig, 1931.
[b] Blossfeldt K. Urformen der Kunst. Photographische Pflanzenbilder. Hrsg. Mit einer Einleitung von K. Nierendorf. 120 Bildtafeln. Berlin, o.J. [1928]
[c] E. Atge. Lichtbilder. Eingeleitet von C.Recht. Paris, Leipzig, 1930.
[d] A.Sander. Anlitz der Zeit. Seichzig Aufnahmen deutscher Menschen des 20. Jahrhuderts. Mit einer Einleitung von Alfred Deblin. Munchen, o.J. [1929]
------------------------------------------
Примечания переводчика.
Статья написана в 1931 и опубликована в том же году в еженедельнике "Die literarische Welt". В ней предвосхищен ряд положений, получивших полное развитие в статье "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости". Перевод по тексту: GS 2.1, 368-385.
1. Беньямин упоминает виднейших представителей ранней фотографии: Дэвид Октавиус Хилл (Hill, 1802-1870) и Джулиа Маргарет Камерон (Cameron, 1815-1879) -- британские фотографы, Надар (Nadar, настоящ. имя -- Феликс Турнашон, 1820-1910) и Шарль Виктор Гюго (Hugo, 1826-1871) -- французские журналисты и фотографы.
2. Морис Утрилло (Utrillo, 1883-1955) -- французский художник, рисовавший городские пейзажи, в том числе с открыток.
3. Беньямин цитирует стихотворение Стефана Георге (1868-1933) "Статуи: шестая" из цикла "Ковер жизни" (1900).
4. Карл Даутендай (Dauthendey, 1819-1896) -- немецкий фотограф; его сын, Макс Даутендай (1867-1918) -- немецкий художник и поэт-импрессионист.
5. Карл Блосфельдт (Blossfeldt, 1865-1932) -- немецкий педагог и фотограф, сделанные им (часто с большим увеличением) фотографии растений должны были доказать, что основные эстетические формы искусства имеют прототипы в природе.
6. Публикация статьи Беньямина сопровождалась рядом фотографий, которые иллюстрировали сказанное; в данном случае в тексте помещался снимок Шеллинга, сделанный неизвестным художником в 1850 г.
7. Игнацы Ян Падеревский (Paderewski, 1860-1941), Ферручо Бузони (Busoni, 1866-1924) -- пианисты-виртуозы.
8. Август Зандер (Sander, 1876-1964) был одним из наиболее замечательных немецких фотографов-документалистов.
9. Альфред Дёблин (Doblin, 1878-1954) немецкий писатель, его роман "Берлин, Александер-платц" стал одним из основных произведений направления "новой вещественности". Беньямин цитирует предисловие Дёблина к изданию фотоснимков Зандера.
10. Ласло Мохой-Надь (Moholy-Nagy, 1895-1946) -- график, фотограф, дизайнер и публицист; работал в Баухаузе (1923-1928), переселившись в Америку организовал Чикагский институт дизайна. Беньямин цитирует его работу "Живопись, фотография, кино" (1925).
11. Тристан Цара (Tzara, 1896-1963) -- французский писатель румынского происхождения, один из основателей дадаизма, позднее сотрудничал с сюрреалистами.
12. Беньямин цитирует "Трехгрошовый процесс" Б.Брехта (Brecht В. Werke. -- Berlin, Weimar, Frankfurt a. M., 1992, Bd. 21, S. 469).
13. Антуан Жозеф Вирц (Wiertz, 1806-1865) -- бельгийский художник, создатель монументальных исторических полотен, считается предтечей символизма.
Перевод и примечания С.А.Ромашко.
[Источник: В.Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. "Медиум". М. 1996. С. 66-91.]
|